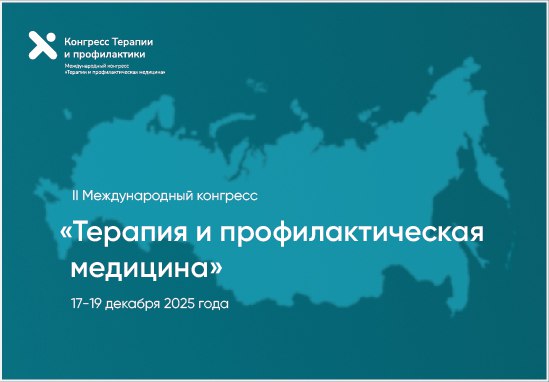Перейти к:
Синдром цитолиза в практике врача первичного звена
https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-41
EDN: UBVBOQ
Аннотация
Цель. Изучение основных причин повышения уровня аминотрансфераз в практике врача первичного звена.
Материал и методы. Проведен анализ научной литературы при помощи поисковой системы PubMed и научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU с использованием ключевых слов: "синдром цитолиза", "аминотрансферазы", "гипертранфераземия", "повышение аланинаминотрансферазы", "повышение аспартатаминотрансферазы". На основе поиска литературы проанализированы и систематизированы данные о наиболее часто встречающихся причинах синдрома цитолиза в клинической практике и представлен пошаговый алгоритм диагностического поиска.
Результаты. В клинической практике синдром цитолиза можно обнаружить как среди пациентов с имеющимися на момент обследования жалобами со стороны органов пищеварения, так и у бессимптомных пациентов (случайная диагностическая находка при профилактическом медицинском осмотре).
Заключение. Для определения тактики ведения пациента с синдромом цитолиза необходимо проведение четкой и точной верификации этиологического фактора, порой требующего длительного времени, рутинных дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследования.
Ключевые слова
Для цитирования:
Ливзан МА, Гаус ОВ, Лисовский МА. Синдром цитолиза в практике врача первичного звена. Первичная медико-санитарная помощь. 2025;2(1):41-52. https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-41. EDN: UBVBOQ
For citation:
Livzan MA, Gaus OV, Lisovsky MA. Cytolysis in the practice of a primary care physician. Primary Health Care (Russian Federation). 2025;2(1):41-52. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-41. EDN: UBVBOQ
Введение
Термин "функциональные печеночные пробы", обычно используемый в отношении определения в крови уровня аминотрансфераз, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), билирубина и альбумина, не вполне корректен с точки зрения нормальной физиологии, поскольку только билирубин и альбумин отображают функциональное состояние — синтетическую функцию печени [1]. В то же время повышение содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрасферазы (АСТ) отражает именно нарушение гепатоцеллюлярной целостности, а высокий уровень ЩФ и ГГТП — наличие холестаза. Кроме того, функциональное состояние печени определяется ее способностью продуцировать факторы свертывания крови (I, II, V, VII, IX, X, XI и XIII, протеин C, протеин S и антитромбин) [2], однако оценка их синтеза не включена в понятие "функциональные печеночные пробы". В наиболее широко распространенных шкалах для прогнозирования риска смерти у пациентов с циррозом печени, таких как шкала Child-Pugh и шкала MELD (Model For End-Stage Liver Disease — модель терминальной стадии заболевания печени), вовсе не включена оценка маркеров цитолиза и холестаза (АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП) для прогнозирования летального исхода, а используются именно маркеры, отражающие синтетическую функцию, такие как билирубин, альбумин, а также международное нормализованное отношение и протромбиновое время, напрямую зависящие от кроветворной функции печени.
Цель исследования — изучить наиболее значимые причины возникновения повышенного уровня аминотрансфераз в периферической крови для создания краткого практического руководства, ориентированного на врачей первичного звена.
Методология исследования
Проведен анализ научной литературы при помощи поисковой системы PubMed и научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU с использованием ключевых слов: "синдром цитолиза", "аминотрансферазы", "гипертранфераземия", "по- вышение аланинаминотрансферазы", "повышение аспартатаминотрансферазы". На основе поиска литературы проанализированы и систематизированы данные о наиболее часто встречающихся причинах синдрома цитолиза (СЦ) в клинической практике и представлен пошаговый алгоритм диагностического поиска.
Результаты и обсуждение
СЦ — лабораторный синдром, который характеризуется повышением активности АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназы (изоферменты лактатдегидрогеназы 4 и лактатдегидрогеназы 5), специфических печеночных ферментов (сорбитдегидрогеназы, альдолазы, орнитин-карбамилтрансферазы), митохондриальных ферментов (глутаматдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы), а также билирубина (главным образом за счет повышения прямой фракции) [3][4]. Безусловно, в практике врачей первичного звена при оценке СЦ ключевая роль отводится АЛТ и АСТ. При этом в случае выявления повышенных показателей аминотрансфераз с целью выбора последующего диагностического алгоритма в спектр лабораторного обследования пациенту в обязательном порядке необходимо включить и определение маркеров холестаза (ЩФ, ГГТП, уровень холестерина). По данным систематического обзора, распространенность СЦ среди взрослого населения планеты достигает 10-20% [5].
Уровень аминотрансфераз в периферической крови измеряют количественно, интерпретируя результаты в изменениях кратности полученных результатов к референсным значениям. В среднем верхняя граница нормы (ВГН) в сыворотке крови у взрослых здоровых пациентов для АЛТ и АСТ (в зависимости от используемых лабораторией тест-систем) составляет до 40 ед/л. Увеличение показателей аминотрансфераз до 5 ВГН интерпретируется как умеренный СЦ (клинико-биохимическая активность-1), увеличение от 5 до 10 ВГН — выраженный цитолиз (клинико-биохимическая активность-2), превышение 10 ВГН следует трактовать как высокий цитолиз (клинико-биохимическая активность-3) [3][6][7]. Данная классификация СЦ имеет клиническую значимость для определения тактики ведения пациента, динамической оценки состояния и эффективности терапии.
АЛТ и АСТ являются ферментами, участвующими в углеводно-белковом обмене, и локализованы исключительно внутри клеток. АЛТ — это фермент, основная доля которого сосредоточена именно в гепатоцитах, где он вовлечен в образовании глутамата и пирувата, участвующих в процессе выработки энергии. Более низкие концентрации АЛТ наблюдаются в сердечной мышце, почках и мышечной ткани. Таким образом, его повышение больше специфично для гепатоцеллюлярного повреждения [8]. АСТ — фермент, участвующий в метаболизме аминокислот и, подобно АЛТ, содержащийся в печени. Однако, в отличие от АЛТ, АСТ в большей концентрации присутствует в скелетных мышцах, сердечной мышце, почках и головном мозге [9].
Важно также ориентироваться и во внутриклеточной локализации ферментов. АЛТ локализуется исключительно в цитоплазме клеток, и появление его в сыворотке крови свидетельствует о повреждении клеточной стенки, в то время как бόльшая часть АСТ находится в митохондриях и в меньшей степени в цитоплазме, а ее избыточное выявление в сыворотке крови говорит о разрушении клеточных органелл, в первую очередь, митохондрий [10].
Очевидно, что при выявлении СЦ у пациента с жалобами со стороны органов гепатобилиарной зоны, врачу-клиницисту необходимо проводить дифференциальную диагностику среди заболеваний, сопровождающихся нарушением целостности гепатоцитов. В ситуациях, когда обнаружение СЦ является случайной находкой, перед врачом ставится более глобальная задача проведения дифференциального поиска причины гипертрансфераземии с применением пошагового алгоритма диагностики.
На первом этапе важно исключить внепеченочные причины. При опросе пациента важен подробный сбор жалоб с их детализацией. В ситуациях, когда патологический процесс может быть локализован вне паренхимы печени, сбор жалоб должен быть систематизирован по органам и системам с учетом физиологического расположения ферментов в организме. Необходимо уточнение жалоб со стороны скелетной мускулатуры (боль, судороги, локальное повышение температуры/гиперемия кожи над мышечной тканью), мочевыводящих путей (коликоподобные боли в поясничной области, примесь крови в моче, нарушение функции мочевыделения, включая. олигурию/анурию), боли в области сердца, в т.ч. эквиваленты ангинозного приступа (одышка, ощущение тяжести/жжения за грудиной) и т.д. При необходимости пациент направляется на консультацию к узким специалистам.
Для исключения транзиторного эпизода повышения аминотрансфераз необходимо также уточнить информацию о предшествующих физических нагрузках накануне сдачи крови. В исследовании Pettersson J, et al. изучено влияние физической нагрузки на повышение уровня аминотрансфераз у здоровых мужчин. Исследование показало, что умеренные и интенсивные упражнения, в т.ч. занятия тяжелой атлетикой, могут приводить к повышению уровня АЛТ до 50-200 ед/л и АСТ до 100-1000 ед/л как минимум на 7 дней, а у части лиц с СЦ повышенные уровни сохранялись и через 10-12 дней при контрольном взятии крови [11][12]. В случае подозрения на транзиторную гипертрансфераземию, связанную с физической активностью, следует либо проводить комплексную оценку уровня креатинфосфокиназы и миоглобина, либо оценку АЛТ и АСТ в динамике как минимум через 14 дней после прекращения занятий спортом, что позволит избежать ошибочной интерпретации биохимического анализа крови.
При сборе анамнеза жизни уточняется наследственный анамнез, сведения о приеме лекарственных препаратов в прошлом и на период обследования, в т.ч. биологически активных добавок и спортивного питания, а также употребление алкоголя и его суррогатов, наркотических веществ или иных веществ, потенциально обладающих гепатотоксичностью. Немаловажными являются сведения о ранее диагностированных заболеваниях печени и сопутствующей аутоиммунной патологии.
На втором этапе при отсутствии внепеченочных причин СЦ необходимо проведение дифференциальной диагностики среди наиболее часто встречаемых заболеваний печени (таблица 1). Для пациента с патологией гепатобилиарного тракта может быть характерно наличие болевого синдрома в правом подреберье, изменение окраски кожного покрова (при развитии желтухи), увеличение печени в размерах при перкуссии и пальпации ее нижнего края. В случае синдрома холестаза возможно появление кожного зуда со следами расчесов на коже; на стадии цирроза печени — увеличение живота в объеме за счет асцитической жидкости, эпизоды рвоты с примесью крови, наличие крови на туалетной бумаге после дефекации как признак кровотечения из расширенных венозных сетей порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов.
Таблица 1
Клинические признаки и диагностика заболеваний печени (адаптировано по Cuperus FJC, et al., 2017) [3]
Этиология | Клинические признаки | Первичная диагностика |
Метаболически ассоциированная болезнь печени | Признаки метаболического синдрома (увеличенная окружность талии, повышенное артериальное давление, липидный профиль с высоким уровнем в сыворотке крови триглицеридов и низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности, повышенный уровень глюкозы или признаки инсулинорезистентности) | Уровень липидов, уровень глюкозы; рассмотреть возможность проведения ультразвукового исследования и оценку фиброза |
Алкогольная жировая болезнь печени | Избыточное потребление алкоголя | Соотношение аспартатаминотрансферазы/ аланинаминотрансферазы >2, средний корпускулярный объем (увеличен), алкогольная болезнь печени/NAFLD индекс |
Лекарственное поражение печени | Полифармация, некоторые растительные добавки, спортивное питание | Анамнез |
Гепатит В | Иммигранты из эндемичных стран, заражение ВИЧ, употребление инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, бытовые контакты или половые партнеры с заболеванием | Тесты на наличие антигенов гепатита В |
Гепатит С | Инъекционное или интраназальное употребление наркотиков, переливание крови, пребывание в местах лишения свободы, гемодиализ, рождение от матери с заболеванием, татуировки | Тесты на наличие антигенов гепатита С |
Гемохроматоз | Семейный анамнез | Оценка сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сыворотки крови, ферритина, коэффициента насыщения трансферрина железом |
Недостаточность α1-антитрипсина | Эмфизема, семейный анамнез | Оценка уровня α1-антитрипсина в сыворотке крови |
Аутоиммунный гепатит | Молодые женщины с аутоиммунными заболеваниями, семейный анамнез | Протеинограмма, антинуклеарные антитела, антитела к гладким мышцам и антитела к микросоме печени/почечной микросомы 1 типа |
Болезнь Вильсона-Коновалова | Преимущественно, жители Восточной Европы <35 лет, психоневрологические симптомы, кольца Кайзера-Флейшера | Церрулоплазмин сыворотки |
На данном этапе до получения результатов диагностического минимума с обязательным исследованием маркеров вирусных гепатитов, абдоминального ультразвукового исследования и альтернативных этиологических факторов [13] врачу оправданно установить предварительный диагноз по международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 1 с помощью кода "K76.9 — Болезнь печени неуточненная", что соответствует коду "DB9Z — Болезни печени, неуточненные" в новой классификации (МКБ-11) 2 с указанием на наличие СЦ и степени клинико-биохимической активности.
Вирусные гепатиты В и С, как правило, вызывают хронические инфекции, приводя к незначительному повышению уровня аминотрансфераз [14]. Для исключения вирусного поражения печени всем пациентам с СЦ рекомендуется назначение скрининговых маркеров вирусного поражения печени (HBsAg, anti-HCV), при этом следует учитывать вероятность ложноотрицательных результатов, что обусловливает целесообразность определение маркеров репликации (HBеAg, HCVcAg), а при необходимости проведение полимеразной цепной реакции для определения дезоксерибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты вирусов в крови. Важно помнить, что на стадии гепатита активность АЛТ, как правило, выше активности АСТ, при прогрессировании заболевания до цирроза печени это соотношение может меняться, а в ряде случаев сопровождаться нормализацией уровня аминотрансфераз, что объясняется уже состоявшимся разрушением гепатоцитов и выходом аминотрансфераз в кровеносное русло ранее [15]. Помимо прочего, о формировании цирроза печени могут свидетельствовать уменьшение числа тромбоцитов, снижение концентрации сывороточного альбумина, повышение уровня γ-глобулинов, удлинение протромбинового времени или увеличение международного нормализованного отношения [16].
Среди женщин молодого возраста, особенно при наличии сопутствующих аутоиммунных заболеваний, необходимо исключение аутоиммунного гепатита, при котором выраженность СЦ зависит от степени вовлеченности в воспаление паренхимы печени. Острое повышение уровня аминотрансфераз может быть умеренным или тяжелым, и, как правило, имеет тенденцию к постепенному снижению по мере хронизации патологического процесса и/или формирования цирроза печени [14]. Опубликованы данные, свидетельствующие, что пациенты с выраженным СЦ имеют более благоприятный прогноз по сравнению с пациентами с умеренным повышением уровня аминотрансфераз [17]. Скрининг аутоиммунного поражения печени включает определения титра антинуклеарных антител (ANA), антител к гладкой мускулатуре (ASMA), антител к микросомам печени и почек (anti-LKM), антимитохондриальных антител (AMA), в т.ч. 2 типа, уровня γ-глобулинов, что позволяет исключить аутоиммунный гепатит, а при повышении уровня маркеров холестаза в периферической крови — первичный билиарный холангит [18].
При хроническом употреблении алкоголя следует исключить алкогольную болезнь печени. Как правило, у данный когорты пациентов отмечается преобладание повышения уровня АСТ над АЛТ. Это объясняется тем, что алкоголь является митохондриальным токсином, приводящим к повреждению мембран этих органелл, и, как следствие, утрате способности метаболизировать триглицериды. Кроме того, этанол растворяет мембраны гепатоцитов [19-23]. Эти патологические изменения приводят к запуску каскада морфологических изменений в паренхиме печени (стеатоз, алкогольный стеатогепатит, фиброз и цирроз печени с риском формирования гепатоцеллюлярной карциномы) [19, 24]. В качестве дополнительных маркеров, указывающих на хроническое употребление алкоголя, можно отнести увеличение среднего корпускулярного объема эритроцитов (MCV), изолированное повышение ГГТП, уровня углевод-дефицитного (десахарированного) трансферрина, мочевой кислоты и выявление этилглюкуронида в моче. Важным диагностическим инструментом при курации пациентов с подозрением на алкогольное поражение печени являются валидированные опросники CAGE (C — cut down (сократить), A — annoyed (раздраженный), G — guilty (виноватый), E — eye-opener (глоток спиртного)) и AUDIT (Alcohol Use Disorderers Identification Test, тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя) [19].
Лекарственно-индуцированное поражение печени может быть вызвано широким спектром лекарственных препаратов (таблица 2), в т.ч. растительные добавки и спортивное питание. Тщательный сбор лекарственного анамнеза имеет решающее значение у пациентов с СЦ, особенно при изолированном повышении АЛТ. Среди факторов риска лекарственного поражения печени выделяют женский пол, пожилой возраст и повышенный индекс массы тела, беременность, сахарный диабет (СД), заболевание печени и почек, курение, употребление алкоголя в период приема лекарственных препаратов и полипрагмазию [25-29]. Следует отметить, что на амбулаторном приеме врачи часто наблюдают СЦ на фоне гиполипидемической терапии. Согласно действующим клиническим рекомендациям по нарушению липидного обмена [30], повышение уровня АЛТ ≥3 ВГН на фоне терапии статинами требует прекращения их приема на 4-6 нед. с последующим повторным контролем показателей липидного профиля.
Таблица 2
Варианты лекарственных поражений печени [25]
Патология | Препараты |
Острые поражения | |
Острый гепатит | Дапсон, дисульфирам, изониазид, индометацин, фенитоин, сульфаниламиды |
Фульминантная печеночная недостаточность (субмассивный и массивный некроз) | Парацетамол, фиалуридин, кетоконазол, флуконазол, галотан, изониазид, метилдофа, никотиновая кислота, нитрофурантоин, пропилтиоурацил, вальпроевая кислота, флутамид |
Внутрипеченочный холестаз | Амитриптилин, ампициллин, карбамазепин, аминазин, циметидин, ранитидин, каптоприл, эстрогены, триметоприм-сульфометоксазол, тиабендазол, толбутамид |
Смешанные (воспалительно-холестатические) поражения | Карбимазол, хлорпропамид, диклоксациллин, метимазол, диклофенак, напроксен, фенилбутазон, сулиндак, фенитоин, тиоридазин |
Гранулематозный гепатит | Аллопуринол, дапсон, диазепам, дилтиазем, гидралазин, пенициллин, фенилбутазон, фенитоин, хинидин, прокаинамид, сульфаниламиды |
Макровезикулярный стеатоз | Глюкокортикоиды, L-аспарагиназа, метотрексат, миноциклин, нифедипин, полное парентеральное питание |
Микровезикулярный стеатоз | Амиодарон, ацетилсалициловая кислота, азидотимидин, диданозин, фиалуридин, пироксикам, тетрациклины, толметин, вальпроевая кислота |
Синдром Бадда-Киари | Эстрогены |
Ишемический гепатит | Никотиновая кислота, метилендиоксиамфетамин |
Хронические поражения | |
Хронический гепатит | Метилдофа, изониазид, нитрофурантоин |
Стеатогепатит | Амиодарон, диэтилстилбэстрол, полное парентеральное питание |
Фиброз/цирроз | Метилдофа, изониазид, метотрексат |
Пелиоз | Анаболические и андрогенные стероиды, азатиоприн, гидроксимочевина, оральные контрацептивы, тамоксифен |
Деструктивный холангит | Аминазин, галоперидол, прохлорперазин |
Склерозирующий холангит | Флоксуридин |
Веноокклюзионная болезнь | Азатиоприн, бисульфан, циклофосфамид, даунорубицин, тиогуанин, алкалоиды, пирролизидин |
Наследственный гемохроматоз — это аутосомно-рецессивное заболевание, приводящее к перегрузке организма железом, что клинически проявляется немотивированной слабостью, повышенной утомляемостью, сонливостью и повышением уровня аминотрансфераз (АЛТ >АСТ) [31]. При общем осмотре отмечают участки пигментации кожного покрова бурого цвета, обусловленные отложением гемосидерина в коже. При лабораторном исследовании выявляют повышение концентрации сывороточного железа и ферритина, а в некоторых случаях — глюкозы плазмы крови как маркера нарушения углеводного обмена. Диагноз должен обязательно дополняться генетическим тестированием. Наиболее распространенными мутациями являются C282Y и H63D в гене HFE, кодирующем белок гепсидин [32].
Болезнь Вильсона-Коновалова является еще одним наследственным заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, обусловленным нарушением обмена меди, в результате чего происходит снижение экскреции с желчью меди и избыточным накоплением ее в гепатоцитах. Перегрузка печеночных клеток медью приводит к повреждению их клеточных мембран с формированием острого или хронического гепатита, что способствует выходу меди в кровеносное русло и отложению ее в других органах и тканях [28][33], в первую очередь, в головном мозге с присоединением соответствующей неврологической симптоматики [28]. В качестве диагностических критериев болезни Вильсона-Коновалова используют: низкий уровень церулоплазмина (<20 мг/дл), увеличение 24-часовой экскреции меди с мочой (>80 мкг/сут.), концентрация меди в ткани печени >200 мкг/г сухой массы, наличие роговичного "медного" кольца Кайзера-Флейшера (зеленовато-коричневые пигментные кольца на периферии радужной оболочки глаз при осмотре в щелевой лампе) [34-36].
При недостаточности синтезируемого печенью белка α1-антитрипсина и снижении его содержания в сыворотке крови <11 мкмоль/л происходит задержка гепатотоксичных полимеризованных молекул фермента в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов [37][38]. Дефицит α1-антитрипсина также относится к группе генетически-детерминированных заболеваний, поражающих наряду с печенью, паренхиму легких и сосуды.
Целиакия — аутоиммунное заболевание, характеризующееся непереносимостью белка злаков глютена, которое развивается у генетически предрасположенных лиц, клинически характеризуется синдромом мальабсорбции, гистологически — наличием атрофии ворсинок тонкой кишки и увеличением количества интраэпителиальных лимфоцитов в слизистой оболочке. В исследовании Bardella MT, et al. среди 158 взрослых пациентов с диагностированной целиакией у 42% обнаружено умеренное повышение уровня аминотрансфераз. При дальнейшем наблюдении в течение года на фоне соблюдения аглютеновой диеты в 95% случаев отмечалась нормализация уровня аминотрансфераз [14][39]. В другом исследовании в результате проведенного серологического скрининга на целиакию в когорте лиц с хроническим СЦ (n=140) антитела к глиадину IgA и/или эндомизию IgA обнаружены у 13 (n=9,3%) больных, а при последующей оценке биоптатов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки диагноз целиакии подтвержден у 12 из 13 серопозитивных пациентов [40]. Полученные результаты позволяют полагать, что скрининг на целиакию может быть важным инструментом в клинической практике среди пациентов с хронической необъяснимой гипертрансфераземией.
В качестве диагноза исключения при СЦ следует также рассмотреть неалкогольную жировую болезнь печени, имеющую сходную с алкогольным поражением гистологическую картину, но возникающую при отсутствии злоупотребления алкоголем или других возможных причин развития патологии печени [41]. Уровни АСТ и АЛТ при стеатозе печени могут быть нормальными, но, как правило, умеренно повышены при неалкогольном стеатогепатите (АЛТ >АСТ), причем активность трансаминаз в сыворотке крови обычно не превышает ВГН более чем в 4-5 раз, а активность АЛТ преобладает над АСТ [22][23][41][42].
Ранее неалкогольная жировая болезнь печени рассматривалась только в качестве диагноза исключения, однако, благодаря исследованиям последних лет, появилось понимание о возможности сочетанного генеза стеатоза и стеатогепатита у одного пациента [43][44], что побудило международное медицинское сообщество к рассмотрению и принятию новой номенклатуры жировой болезни печени (steatotic liver disease). Для стеатоза печени любой этиологии предложено использовать "зонтичный" термин — стеатозная (жировая) болезнь печени (СБП), которая подразделяется на 5 групп: метаболически-ассоциированную жировую болезнь печени; СБП, ассоциированную с нарушением метаболизма и чрезмерным употреблением алкоголя; алкогольную болезнь печени; СБП другой установленной этиологии; криптогенную СБП [44][45].
Большое внимание уделяется кардиометаболическим факторам, позволяющим выставить диагноз метаболически-ассоциированной жировой болезни печени [44]:
— индекс массы тела >25 кг/м2 (европеоиды) или 23 кг/м2 (азиаты), или окружность талии >94 см (муж.), >80 см (жен.), или другие этнические эквивалентные показатели;
— уровень глюкозы натощак >5,6 ммоль/л, или постпрандиальной глюкозы >7,8 ммоль/л, или гликированного гемоглобина >5,7%, или наличие СД 2 типа, или лечение СД 2 типа;
— артериальное давление ≥130/85 мм рт.ст. или гипотензивное лекарственное лечение;
— уровень триглицеридов в плазме ≥1,70 ммоль/л или липидснижающее лечение;
— уровень холестерина липопротеинов высокой плотности в плазме <1,0 ммоль/л (муж.) и <1,3 ммоль/л (жен.) или липидснижающее лечение.
Особого внимания заслуживает выявление СЦ в период беременности. В проспективном когортном исследовании (n=5 685) здоровых молодых женщин, у которых выявлен СЦ на сроке 9-13 нед. беременности, в последующем диагностированы гестационная гипертензия (2,8%, n=160) или преэклампсия (4,3%, n=244) [46]. В исследовании Leng J, et al. (n=17 359) повышенный уровень АЛТ в I триместре беременности ассоциировался с высоким риском формирования гестационного СД, особенно среди беременных с избыточной массой тела или ожирением [47]. Таким образом, результаты этих исследований позволяют по-новому взглянуть на роль печени в патогенезе некоторых гестационных осложнений, что диктует необходимость более внимательного наблюдения за беременными с СЦ врачами первичного звена совместно с акушерами-гинекологами. Кроме того, не следует забывать о возможном сочетании СЦ и холестаза, что требует исключения таких состояний, как внутрипеченочный холестаз беременных, острая жировая дистрофия печени и НЕLLР-синдром (Н — hemolysis (гемолиз), ЕL — еlеvated liver enzymes (повышение активности ферментов печени), LP — lоw level рlаtelet (тромбоцитопения)). После выявления причины СЦ пациенту в необходимом объеме должна быть обеспечена помощь на основании действующих клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи согласно той или иной нозологической единицы.
Заключение
СЦ является распространенным лабораторным синдромом в клинической практике. Учитывая, что АСТ и АЛТ не обладают строгой специфичностью в качестве маркеров повреждения печени, врачи первичного звена должны рассматривать все возможные причины повышения аминотрансфераз, применив пошаговый алгоритм с целью исключения ошибки диагностического поиска и своевременного назначения пациенту эффективной фармакотерапии.
1. Международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10). https://icd.who.int/ru (28.03.2025).
2. Международная классификация болезней 11 пересмотра (МКБ-11). https://mkb11.online/ (28.03.2025).
Список литературы
1. Hall P, Cash J. What is the real function of the liver ‘function’ tests? Ulster Med J. 2012;81(1):30-6.
2. Thachil J. Relevance of clotting tests in liver disease. Postgrad Med J. 2008;84(990):177-81. doi:10.1136/pgmj.2007.066415.
3. Cuperus FJC, Drenth JPH, Tjwa ET. Mistakes in liver function test abnormalities and how to avoid them. UEG Education. 2017;17:1-5.
4. Ливзан М. А., Гаус О. В., Лисовский М. А. Дифференциальный диагноз патологии печени при синдроме цитолиза: разбор клинического случая. Эффективная фармакотерапия. 2023;19(35):22-9. doi:10.33978/2307-3586-2023-19-35-22-29.
5. Radcke S, Dillon JF, Murray AL. A systematic review of the prevalence of mildly abnormal liver function tests and associated health outcomes. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015;27(1):1-7. doi:10.1097/MEG.0000000000000233.
6. Kamiike W, Fujikawa M, Koseki M, et al. Different patterns of leakage of cytosolic and mitochondrial enzymes. Clin Chim Acta. 1989;185(3):265-70. doi:10.1016/0009-8981(89)90216-7.
7. Ioannou GN, Boyko EJ, Lee SP. The prevalence and predictors of elevated serum aminotransferase activity in the United States in 1999-2002. Am J Gastroenterol. 2006;101(1):76-82. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.00341.x.
8. Aulbach AD, Amuzie CJ. Chapter 17 — Biomarkers in Nonclinical Drug Development. In: Faqi AS. A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical Drug Development (Second Edition). Cambridge (MA): Academic Press. 2017; 447-71.
9. Sparling DW. Chapter 3 — Bioindicators of Contaminant Exposure. In: Sparling DW. Ecotoxicology Essentials. San Diego: Academic Press. 2016;45-66.
10. Reichling JJ, Kaplan MM. Clinical use of serum enzymes in liver disease. Dig Dis Sci. 1988;33(12):1601-14. doi:10.1007/BF01535953.
11. Chuang CC, Chen WC, Lee SY, et al. Kaohsiung J Med Sci. 1996;12(9):544-8.
12. Pettersson J, Hindorf U, Persson P, et al. Muscular exercise can cause highly pathological liver function tests in healthy men. Br J Clin Pharmacol. 2008;65(2):253-9. doi:10.1111/j.1365-2125.2007.03001.x.
13. Newsome PN, Cramb R, Davison SM, et al. Guidelines on the management of abnormal liver blood tests. Gut. 2018;67(1):6-19. doi:10.1136/gutjnl-2017-314924.
14. Kalas MA, Chavez L, Leon M, et al. Abnormal liver enzymes: A review for clinicians. World J Hepatol. 2021;13(11):1688-98. doi:10.4254/wjh.v13.i11.1688.
15. Sullivan MK, Daher HB, Rockey DC. Normal or near normal aminotransferase levels in patients with alcoholic cirrhosis. Am J Med Sci. 2022;363(6):484-9. doi:10.1016/j.amjms.2021.09.012.
16. Ивашкин В. Т., Маевская М. В., Жаркова М. С. и др. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению фиброза и цирроза печени и их осложнений. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2021;31(6):56-102. doi:10.22416/1382-4376-2021-31-6-56-102.
17. Al-Chalabi T, Underhill JA, Portmann BC, et al. Effects of serum aspartate aminotransferase levels in patients with autoimmune hepatitis influence disease course and outcome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6(12):1389-95. doi:10.1016/j.cgh.2008.08.018.
18. Giannini EG, Testa R, Savarino V. Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. CMAJ. 2005;172(3):367-79. doi:10.1503/cmaj.1040752.
19. Ивашкин В. Т., Маевская М. В., Павлов Ч. С. и др. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени по ведению взрослых пациентов с алкогольной болезнью печени. Росссийский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2017;27(6):20-40. doi:10.22416/1382-4376-2017-27-6-20-40.
20. Setshedi M, Wands JR, Monte SM. Acetaldehyde adducts in alcoholic liver disease. Oxid Med Cell Longev. 2010;3(3):178-85. doi:10.4161/oxim.3.3.12288.
21. Dunn W, Shah VH. Pathogenesis of Alcoholic Liver Disease. Clin Liver Dis. 2016;20(3):445-56. doi:10.1016/j.cld.2016.02.004.
22. Haber MM, West AB, Haber AD, et al. Relationship of aminotransferases to liver histological status in chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol. 1995;90(8):1250-7.
23. Bacon BR, Farahvash MJ, Janney CG, et al. Nonalcoholic steatohepatitis: an expanded clinical entity. Gastroenterology. 1994;107(4):1103-9. doi:10.1016/0016-5085(94)90235-6.
24. Dunn W, Zeng Z, O’Neil M, et al. The interaction of rs738409, obesity, and alcohol: a population-based autopsy study. Am J Gastroenterol. 2012;107(11): 1668-74. doi:10.1038/ajg.2012.285.
25. Буеверов А. О. Лекарственные поражения печени. РМЖ. 2012;3:107.
26. Real M, Barnhill MS, Higley C, et al. Drug-Induced Liver Injury: Highlights of the Recent Literature. Drug Saf. 2019;42(3):365-87. doi:10.1007/s40264-018-0743-2.
27. Njoku DB. Drug-induced hepatotoxicity: metabolic, genetic and immunological basis. Int J Mol Sci. 2014;15(4):6990-7003. doi:10.3390/ijms15046990.
28. Буеверов А. О. Основы гепатологии. М.: Издательский дом "АБВ-пресс". 2022; 408 с. ISBN: 978-5-6046462-5-0.
29. Tujios SR, Lee WM. Acute liver failure induced by idiosyncratic reaction to drugs: Challenges in diagnosis and therapy. Liver Int. 2018;38(1):6-14. doi:10.1111/liv.13535.
30. Ежов М. В., Кухарчук В. В., Сергиенко И. В. и др. Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5471. doi:10.15829/1560-4071-2023-5471.
31. Lin E, Adams PC. Biochemical liver profile in hemochromatosis. A survey of 100 patients. J Clin Gastroenterol. 1991;13(3):316-20. doi:10.1097/00004836-199106000-00013.
32. European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@ easloffice.eu; European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis. J Hepatol. 2023;79(5):1341. doi:10.1016/j.jhep.2023.09.002.
33. Brewer GJ. Practical recommendations and new therapies for Wilson’s disease. Drugs. 1995;50(2):240-9. doi:10.2165/00003495-199550020-00004.
34. Ryan A, Nevitt SJ, Tuohy O, et al. Biomarkers for diagnosis of Wilson’s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019(11):CD012267. doi:10.1002/14651858.CD012267.pub2.
35. Salman HM, Amin M, Syed J, et al. Biochemical testing for the diagnosis of Wilson’s disease: A systematic review. J Clin Lab Anal. 2022;36(2):e24191. doi:10.1002/jcla.24191.
36. Xu R, Jiang YF, Zhang YH, et al. The optimal threshold of serum ceruloplasmin in the diagnosis of Wilson’s disease: A large hospital-based study. PLoS One. 2018;13(1):e0190887. doi:10.1371/journal.pone.0190887.
37. Ranes J, Stoller JK. A review of alpha-1 antitrypsin deficiency. Semin Respir Crit Care Med. 2005;26(2):154-66. doi:10.1055/s-2005-869536.
38. Lomas DA, Evans DL, Finch JT, et al. The mechanism of Z alpha 1-antitrypsin accumulation in the liver. Nature. 1992;357(6379):605-7. doi:10.1038/357605a0.
39. Bardella MT, Fraquelli M, Quatrini M, et al. Prevalence of hypertransaminasemia in adult celiac patients and effect of gluten-free diet. Hepatology. 1995;22(3):833-6.
40. Bardella MT, Vecchi M, Conte D, et al. Chronic unexplained hypertransaminasemia may be caused by occult celiac disease. Hepatology. 1999;29(3):654-7. doi:10.1002/hep.510290318.
41. Ивашкин В. Т., Маевская М. В., Жаркова М. С. и др. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российской ассоциации эндокринологов, Российской ассоциации геронтологов и гериатров и Национального общества профилактической кардиологии по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2022;32(4):104-40. doi:10.22416/1382-4376-2022-32-4-104-140.
42. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018;67(1):328-57. doi:10.1002/hep.29367.
43. Eslam M, Newsome PN, Sarin SK, et al. A new definition for metabolic dysfunctionassociated fatty liver disease: An international expert consensus statement. J Hepatol. 2020;73(1):202-9. doi:10.1016/j.jhep.2020.03.039.
44. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. Hepatology. 2023;78(6):1966-86. doi:10.1097/HEP.0000000000000520.
45. Драпкина О. М., Мартынов А. И., Арутюнов Г. П. и др. Резолюция Форума экспертов "Новые терапевтические горизонты НАЖБП". Терапевтический архив. 2024;96(2):186-93. doi:10.26442/00403660.2024.02.202648.
46. Zhang Y, Sheng C, Wang D, et al. High-normal liver enzyme levels in early pregnancy predispose the risk of gestational hypertension and preeclampsia: A prospective cohort study. Front Cardiovasc Med. 2022;9:963957. doi:10.3389/fcvm.2022.963957.
47. Leng J, Zhang C, Wang P, et al. Plasma Levels of Alanine Aminotransferase in the First Trimester Identify High Risk Chinese Women for Gestational Diabetes. Sci Rep. 2016;6:27291. doi:10.1038/srep27291.
Об авторах
М. А. ЛивзанРоссия
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ректор, зав. кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии
Омск
О. В. Гаус
Россия
д.м.н., доцент, профессор кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии
Омск
М. А. Лисовский
Россия
ассистент кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии
Омск
Что известно о предмете исследования?
- Синдром цитолиза — частая диагностическая находка в клинической практике врача. Основными задачами для врача являются определение происхождения повышения уровня трансаминаз, установление объема дополнительного обследования пациента и назначение адекватного лечения.
Что добавляют результаты исследования?
- Проанализированы наиболее распространенные причины синдрома цитолиза, в т.ч. внепеченочного происхождения.
- Определен диагностический минимум для дифференциальной диагностики заболеваний печени, сопровождающийся повышением уровня аминотрансфераз в периферической крови.
Рецензия
Для цитирования:
Ливзан МА, Гаус ОВ, Лисовский МА. Синдром цитолиза в практике врача первичного звена. Первичная медико-санитарная помощь. 2025;2(1):41-52. https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-41. EDN: UBVBOQ
For citation:
Livzan MA, Gaus OV, Lisovsky MA. Cytolysis in the practice of a primary care physician. Primary Health Care (Russian Federation). 2025;2(1):41-52. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-41. EDN: UBVBOQ